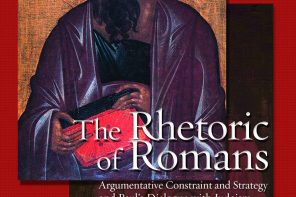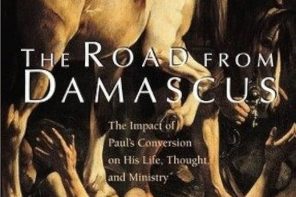“Послание к Римлянам: введение, комментарии и размышления”.
“Послание к Римлянам: введение, комментарии и размышления”.Послание к Римлянам: введение, комментарии и размышления
 “Послание к Римлянам: введение, комментарии и размышления”.
“Послание к Римлянам: введение, комментарии и размышления”.Н. Т. Райт,
Страницы 393-770 в т. 10 из Библии Нового толкователя: Комментарий в двенадцати томах.
Под редакцией Леандера Э. Кека. Нэшвилл: Абингдон, 2002. Стр. 1011.
Превосходный комментарий ученного нового взгляда на Павла. Вводный раздел комментария короткий, 17 страниц, включая библиографию и наброски. Тем не менее, введение действительно служит своей цели, поскольку 10 страниц, охватывающих “Форму и тему Послания к Римлянам”, затрагивают различные аспекты “Божьей праведности”. Райт начинает с объяснения Божьей праведности как еврейской концепции, связанной с более широкими областями дискурса, в частности с заветом, судом и апокалиптическими языковыми формами. В понимании Райтом иудаизма Второго Храма образы завета и суда связаны, поскольку завет установлен для устранения последствий греха и зла в мире, то есть для установления справедливости или праведности. Признание того, что мир нуждается в исправлении, и непоколебимая уверенность в Божьем завете – верности Израилю – сливаются воедино, порождая “апокалиптическое” ожидание: надежду на то, что Бог будет действовать внезапно и решительно, чтобы судить мир и оправдать свой народ Израиль. В свете этого еврейского происхождения Райт обсуждает видение “Божьей праведности”, переделанное для Павла как христианина. Райт утверждает, что Павел пришел к осознанию смерти и воскресения Христа как апокалиптического момента, которого ждал Израиль. Эта неожиданная кульминация истории Израиля заставляет Павла переосмыслить природу народа Божьего: народа, в который должны входить язычники, народа, который не должен быть отделен от мира соблюдением Торы. Сужая свой охват до самого Послания к Римлянам, Райт утверждает, что в Послании к Римлянам говорится о Божьей праведности, определяемой как собственная праведность Бога, а не статус, передаваемый верующим, и в качестве поддержки он приводит ссылки на Ветхий Завет и литературу Второго храма. «Послание к Римлянам» – это history of salutis, а не ordo salutis. Работа Бога в истории включает в себя ниспровержение “истории”, рассказанной Римом, — истории о мире во всем мире, принесенном Цезарем. Этот антицезарский подтекст также является повторяющейся темой в комментарии.
Слова “завет” в Послании к Римлянам (оно встречается только дважды, 9:4 и 11:27, причем последнее является цитатой из Ветхого Завета) и у Павла в целом (всего девять раз, всего в пяти письмах), Райт рассматривает Божий завет со Своим народом как незаменимый строительный блок мысли Павла. Более конкретно, именно завет обеспечивает непрерывность Божьего искупительного замысла, начатого с Авраама (например, 10:464, 469). На другой стороне медали завета Райт также противопоставляет свою теологию “теологии возвращения на землю” диспенсационализму (и современной либеральной теологии) (например, 10:698). Как это типично для работы Райта, он апеллирует к толкованию Священных Писаний, бросая вызов различным теологиям и интерпретациям (например, 10:477-78, 616-17, 722). Как бы кто-то ни расходился с Райтом в доктрине Священного Писания, его использование Священного Писания является образцовым для любого, кто хочет придерживаться позиции sola scriptura. Когда речь заходит о необходимости и самодостаточности работы Христа, Райт четко формулирует solus Christus в искупительно-исторических рамках: “Решение греха одинаково для всех: благодать, действующая через верность Божьему завету, приводящая к жизни в грядущем веке, через Иисуса, Мессию Израиля” (10:525). Несмотря на отвращение некоторых недоброжелателей Райта, Райт понимает Послание к Римлянам (и весь Новый Завет, если уж на то пошло) как демонстрацию потребности всего человечества (как евреев, так и язычников) в спасительной работе Бога через Христа. Наконец, Райт демонстрирует, что вся работа Бога по искуплению человечества через Христа предназначена для собственной славы Бога: “Теперь, в надежде, через Евангелие Мессии, Иисуса, слава восстановлена (5:2; 8:30); но слава остается Божьей, Божьей чтобы отдавать, Божье должно отражаться обратно Богу, принадлежать Богу навеки” (10:696).
Что касается общей оценки комментария, то он сделан очень хорошо. Автор предлагает ряд интригующих чтений, которые, вероятно, еще некоторое время будут бросать вызов толкователям. Примером этого является его чтение Римлянам 2:15, “закон, написанный на их сердцах”, как относящийся к христианам-язычникам (чтение, однажды предложенное Августином). Его идея о том, что Рим 6-8 представляет собой своего рода пересказ повествования об Исходе, является показательным примером.
Целевая аудитория этого комментария находится где-то между ученым и пастором. В этом отношении она служит своей заявленной цели – принести “лучшее из современной библейской науки на службу церкви” (10:xvii). Пасторы найдут эту работу экзегетически стимулирующей и обогатятся при применении пунктов, предложенных в “Размышлениях”.
Дж. Р. Дэниел Кирк