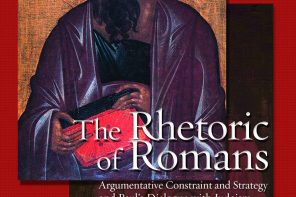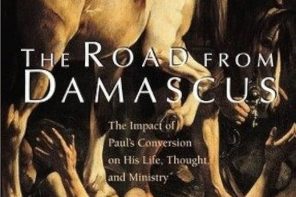Избранный народ: избрание, Павел и иудаизм Второго Храма.
Избранный народ: избрание, Павел и иудаизм Второго Храма.Избранный народ: избрание, Павел и иудаизм Второго Храма
 Избранный народ: избрание, Павел и иудаизм Второго Храма.
Избранный народ: избрание, Павел и иудаизм Второго Храма. А. Чедвик Торнхилл
(Downers Grove, IL: IVP Academic, 2015), мягкая обложка 288 стр.
В этой редакции своей диссертации Университета Свободы 2013 года (под руководством Лео Персера) Торнхилл исследует концепцию избрания в письмах Павла и в различных ранних еврейских текстах. Центральный тезис Торнхилла состоит в том, что концепция безусловного индивидуального избрания чужда как ранним еврейским материалам, так и материалам Павла. Скорее, «Бог сохраняет избранный народ в целом, [но] судьба каждого человека [условна]» (стр. 82), хотя какие условия подчеркиваются как необходимые для того, чтобы человек был включен в число избранных, различаются в литературе. После короткой вводной главы Торнхилл посвящает главы со второй по шестую изучению конкретных аспектов избрания в нескольких ранних иудейских источниках, а затем применяет выводы из этих источников к толкованию конкретных отрывков Павла об избрании. В седьмой главе он предлагает перечитывать Рим. 8:26–11:36, утверждая, что Павел действует в рамках типичной еврейской концепции условного заветного участия в народе Божьем. Глава восьмая содержит краткое заключительное резюме. Что касается раннего еврейского материала, Торнхилл в значительной степени зависит от работ Марка Эллиотта, Сигурда Гриндхейма и Криса Ван Ландингема и развивает их. Он утверждает, что исправление Э. П. Сандерсом традиционной карикатуры на ранний иудаизм как на безблагодатную религию дела-спасения «могло качнуть маятник слишком далеко в том, что касается еврейских верований, касающихся избрания» (стр. 20).
Он утверждает, что модель Сандерса заставила многих игнорировать условные аспекты завета. Что касается материала Павла, Торнхилл стремится разрушить предопределенные прочтения Павла, особенно доктрину двойного предопределения, в которой Бог в одностороннем порядке выбирает людей для спасения или проклятия (работа Томаса Шрейнера служит основным фоном для его аргументов здесь).
Тематическая структура книги может сделать ее более доступной для читателей, менее знакомых с ранними еврейскими текстами. Этот подход, однако, также приводит к сглаживанию различий между текстами и приводит к избыточности, поскольку некоторые тексты освещаются несколько раз под несколько разными углами. Отчасти в результате, исследователи раннего иудаизма, скорее всего, сочтут трактовку этого материала несколько худой и лишенной нюансов, хотя Торнхилл похвально не попадает в слишком распространенную ловушку введения раннего еврейского материала только для того, чтобы служить фоном для взглядов Павла. Его аргумент о том, что детерминистские аспекты ранней еврейской апокалиптической литературы часто преувеличивались за счет условных и императивных утверждений, встречающихся в тех же произведениях, является нюансированным и проницательным (стр. 186–203). Ядром книги является толкование ключевых отрывков Павла в конце каждой из тематических глав. Три раздела, каждый из которых фокусируется на пространственном (или на том, что Торнхилл называет «сферическим» ) аспекте языка Павла, то есть на том, как Павел «говорит больше в терминах [общественной] «идентичности» , чем [спасительной] «модальности» с.136) – заслуживают особого внимания. В первом он утверждает, что в Гал. 2:15–3:14 (стр. 135–45) Павел участвует в давней иудейской дискуссии о том, «какие условия или признаки определяют Божий народ» (стр. 146). В частности, именно принятие духа Христа отличает «своих» от «чужих» («живущих так, как будто дела Мессии не было» [с. 145] ). Точно так же в своем обсуждении Рим. 3:21–4:17 (стр. 170– 78) он утверждает, что «Павел продолжает свое понимание еврейского преимущества, согласно которому евреи уже имели положение «изнутри» завета, в то время как язычники пришли как посторонние «через» верность Иисуса» (стр. 174). То есть, хотя обе группы должны в конечном счете участвовать в верности Иисуса, для евреев (которые являются «своими») это возобновление завета, тогда как язычники вновь присоединяются извне. Анализируя Рим. 8:1–17 (стр. 212–218), Торнхилл отвергает «односторонний взгляд на божественную деятельность до такой степени, что роль, которую играют люди, становится минимальной или вообще отсутствует» (стр. 212). Он справедливо признает, что основной проблемой в этом разделе является не закон, а грех, поскольку «Павел утверждает, что Бог спас закон, которому «грех» помешал выполнить его цели, осудил «грех» и поместил закон в надлежащая сфера Духа» (стр. 218), тем самым делая возможным надлежащее исполнение закона в этой сфере. Хотя (возможно, чрезмерно) краткие, эти разделы содержательны и вносят достойный вклад в реконструкцию сотериологии Павла. Книга успешно демонстрирует, что ранние иудейские тексты и тексты Павла по-разному представляют концепцию избрания и что избрание нельзя просто приукрасить как безоговорочное предопределение людей для спасения (или иное). Скорее, Торнхилл показывает, что исследования избрания должны серьезно относиться к корпоративным и условным аспектам структуры завета. Учитывая, как часто эта обусловленность игнорировалась в научных рассуждениях, книга Торнхилла представляет собой важную поправку и потенциально плодотворную отправную точку для дальнейшего обсуждения и более точного изучения концепции выборов в будущем.
Джейсон А. Стэплз.